Вопрос Папе Карло
Список разделов › Прочее › Беседка
Сообщений: 39
• Страница 2 из 2 • 1, , 2
Я хочу спросить - на что жили русские дворяне?
Откуда они брали деньги?
Ведь работать в их среде было не популярным занятием?
Откуда они брали деньги?
Ведь работать в их среде было не популярным занятием?
- monroe

- Автор темы


- Сообщения: 16343
- Темы: 228
- Зарегистрирован: Пт, 26 июля 2013
- С нами: 12 лет 3 месяца
- О себе: жду чуда
Re: Вопрос Папе Карло
Папа_Карло писал(а):На мой взгляд...это сословие сделало всё, чтоб его вырезали...
Точно. Дворяне крестьян считали чем-то между скотом и людьми, и законы осознанно принимали в свою пользу. А время было уже не то. Усадьбы жгли задолго до революции. Надо было сделать выводы.
- rita123

- Откуда: Москва
- Сообщения: 7485
- Темы: 261
- Зарегистрирован: Вс, 4 апреля 2010
- С нами: 15 лет 7 месяцев
Re: Вопрос Папе Карло
monroe,
Самое веселое началось после 1861 года...
Причины отмены крепостного права.
1. Крепостная система «морально устарела»
Для крестьян крепостное право утратило свою легитимность давным-давно – после «Манифеста о вольности дворянства»1762 г. Прежде обязательная служба дворян государству в известной мере оправдывала бесплатную работу на барина: каждый нёс государево тягло на своём месте. Однако избавление дворян от любых повинностей делало сохранение крестьянских повинностей противоестественным.
2. Несравнимо большую производительность вольнонаёмного труда (за хорошее жалованье вольный слуга сделает то, с чем едва управляются 3-4 ленивых крепостных)
3. Начались призывы наиболее продвинутых дворян избавляться в своих имениях от лишних крестьянских ртов, отпуская их на все четыре стороны.
4. Многие другие помещики прониклись. Они бы с удовольствием очистили свои владения и от остальных своих крепостных, но законы Российской империи запрещали помещикам освобождать крестьян без земли, обязывая обеспечивать отпускаемых на волю пашенных крестьян достаточными для ведения хозяйства наделами. Поэтому освобождение крестьян 19 февраля1861 г. (от начала до конца подготовленное и осуществлённое самими дворянами) можно в известной мере рассматривать и как «освобождение» дворян от крестьян.
5. Важнейшей причиной, подвигнувшей правительство приняться за дело освобождения, было постыдное фиаско России в Крымской войне (1853–1856).
* Наличие у противника парового военного флота против парусного русского.
* Войска коалиции были вооружены нарезными винтовками (штуцерами), которые обладали намного превосходящими технико-тактическими характеристиками.
* Главное: на исходе войны трагически сказалось отсутствие в России сети железных дорог, которые позволили бы маневрировать войсками, оперативно перебрасывая их с одного театра военных действий на другой.
Все эти факторы поражения русской армии в конечном итоге сводились к военно-техническому и индустриальному отставанию России. Страна не владела современными
технологиями (паровые машины, нарезное оружие), не производила даже в достатке металла для строительства рельсовых путей. Только немедленное преодоление промышленной отсталости могло сохранить за Россией статус великой державы, способной отстоять свои национальные интересы и свои территории от посягательств извне.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
А почему этот вопрос так интересует?
Самое веселое началось после 1861 года...
Причины отмены крепостного права.
1. Крепостная система «морально устарела»
Для крестьян крепостное право утратило свою легитимность давным-давно – после «Манифеста о вольности дворянства»1762 г. Прежде обязательная служба дворян государству в известной мере оправдывала бесплатную работу на барина: каждый нёс государево тягло на своём месте. Однако избавление дворян от любых повинностей делало сохранение крестьянских повинностей противоестественным.
2. Несравнимо большую производительность вольнонаёмного труда (за хорошее жалованье вольный слуга сделает то, с чем едва управляются 3-4 ленивых крепостных)
3. Начались призывы наиболее продвинутых дворян избавляться в своих имениях от лишних крестьянских ртов, отпуская их на все четыре стороны.
4. Многие другие помещики прониклись. Они бы с удовольствием очистили свои владения и от остальных своих крепостных, но законы Российской империи запрещали помещикам освобождать крестьян без земли, обязывая обеспечивать отпускаемых на волю пашенных крестьян достаточными для ведения хозяйства наделами. Поэтому освобождение крестьян 19 февраля1861 г. (от начала до конца подготовленное и осуществлённое самими дворянами) можно в известной мере рассматривать и как «освобождение» дворян от крестьян.
5. Важнейшей причиной, подвигнувшей правительство приняться за дело освобождения, было постыдное фиаско России в Крымской войне (1853–1856).
* Наличие у противника парового военного флота против парусного русского.
* Войска коалиции были вооружены нарезными винтовками (штуцерами), которые обладали намного превосходящими технико-тактическими характеристиками.
* Главное: на исходе войны трагически сказалось отсутствие в России сети железных дорог, которые позволили бы маневрировать войсками, оперативно перебрасывая их с одного театра военных действий на другой.
Все эти факторы поражения русской армии в конечном итоге сводились к военно-техническому и индустриальному отставанию России. Страна не владела современными
технологиями (паровые машины, нарезное оружие), не производила даже в достатке металла для строительства рельсовых путей. Только немедленное преодоление промышленной отсталости могло сохранить за Россией статус великой державы, способной отстоять свои национальные интересы и свои территории от посягательств извне.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Марк писал(а):Папа_Карло
Вы дворянин?
А почему этот вопрос так интересует?
- Папа_Карло


- Сообщения: 27502
- Темы: 77
- Зарегистрирован: Пн, 5 марта 2007
- С нами: 18 лет 8 месяцев
Re: Вопрос Папе Карло
а вот ничего не напоминает?rita123 писал(а):Дворяне крестьян считали чем-то между скотом и людьми, и законы осознанно принимали в свою пользу.

ситуация-то у нас похожая...даже пачпорта имеем

- Ольга Совякина


- Откуда: Новосибирск
- Сообщения: 20002
- Темы: 129
- Зарегистрирован: Чт, 24 декабря 2009
- С нами: 15 лет 10 месяцев
- О себе: несмотря ни на что
Re: Вопрос Папе Карло
Кент писал(а):это сословие сделало всё, чтоб его вырезали..



"Значительную часть имперского периода дворянское сословие в России находилось в весьма специфическом положении "между престолом и оппозицией".
Будучи социальной опорой самодержавия, дворянство получало от него различного рода материальные и нематериальные привилегии, что неизбежно делало его ближайшим союзником власти. Одновременно, будучи самым передовым и культурным слоем империи, дворянство в лице лучших своих представителей не могло не встать рано или поздно в оппозицию существующим порядкам, что привело к разделению этого сословия на лагерь "реакционеров" и лагерь "реформаторов". Раскол дворянства, которое являлось элитой имперского общества, накладывал непосредственный отпечаток и на политику самодержавия. Власть постоянно колебалась между реформаторскими планами, встречавшими горячее содействие одной части дворянского сословия, и реакцией, желанием сохранить "статус-кво", что было вызвано давлением другой части дворянства (можно вспомнить хотя бы, какое противодействие вызывали в свое время преобразовательские планы М.М. Сперанского, проекты Великих реформ и реформы П.А. Столыпина. В результате отсутствия последовательных реформ для имперской системы остается только один путь- путь революции." (c)
Не будем забывать также, что именно представители этого сословия и были революционерами.
Добавлено спустя 50 минут 2 секунды:
В долгах они были в основном после отмены крепостного права. Не хозяственники они были в большинстве своем. Это же надо было пересматривать всю эконoмическую концепцию, стать каждому буквально предпринимателем... многие не справились и разорились.Варда-Сахара писал(а):дворяне всегда были в долгах, если судить по классике
- Nadin
Re: Вопрос Папе Карло
Интересно откуда растут корни ваших симпатий к марксизму и социализму.Папа_Карло писал(а):А почему этот вопрос так интересует?
Мои предки были из крестьян середняков, в начале 19 века даже выбились в некий средний класс того времени - вроде держали свою лавку. Оба прадеда были младшими офицерскими чинами в царской армии. Видел их фото в офицерской форме и с наградами. Большевики их почему то не тронули, получается по карме получали от них трёпку не все подряд. А их дети, мои деды, стали офицерами Красной Армии.
- Марк
- Сообщения: 7467
- Темы: 435
- Зарегистрирован: Вс, 9 июня 2013
- С нами: 12 лет 5 месяцев
Re: Вопрос Папе Карло
Марк писал(а):Интересно откуда растут корни ваших симпатий к марксизму и социализму.
А у меня нет особых симпатий ни к марксизму, ни к социализму, но в данную историческую эпоху это было спасением, причем не только России, но и мира...
Я эти 2 изма, рассматриваю только как способ сохранения чего то большего, чем дворянство и даже чем царская власть, стараюсь понять...что именно в них, позволило сохранить Традицию русской цивилизации. А именно это и произошло...
Марк писал(а):Большевики их почему то не тронули, получается по карме получали от них трёпку не все подряд. А их дети, мои деды, стали офицерами Красной Армии.
Генштаб русской армии, практически в полном составе перешел на сторону большевиков, да и сама революция была, похоже, обычным военным переворотом....а потом насочиняли сказки.
- Папа_Карло


- Сообщения: 27502
- Темы: 77
- Зарегистрирован: Пн, 5 марта 2007
- С нами: 18 лет 8 месяцев
Re: Вопрос Папе Карло
Самая большая проблема ФДК, да и всей нашей планеты, неискренность. Люди боятся, стыдятся сообщать правду о себе. Например вы не ответили, кто вы - потомок князей, ханов Дагестана ( имя Тимур), из разночинцев или рабочих?Папа_Карло писал(а):А у меня нет особых симпатий ни к марксизму, ни к социализму,
Но я не об этом. Например вчера боксёр-миллионер Виталий Кличко призывал к всеукраинской забастовке 20 февраля, потом оговорился, не на весь день, а только на один час. Наверно вспомнив, что у его соратника Порошенко есть шоколадные фабрики, сахарные заводы, телеканалы и газеты. Им ведь то же придется бастовать, а это убытки для Порошенко и других крупных бизнесменов из оппозиции. Власть властью, но денежки любят тишину.

- Марк
- Сообщения: 7467
- Темы: 435
- Зарегистрирован: Вс, 9 июня 2013
- С нами: 12 лет 5 месяцев
Re: Вопрос Папе Карло
Продолжение.
Согласно Положению 19 февраля 1861 г.,
1.крестьяне действительно получили личную свободу и земельный надел в собственность.
2. Земельные наделы, предоставленные им, были очень малы и недостаточны для ведения полноценного хозяйства (крестьяне получили 28 % земли, помещики – 72 %).
3. Наделы предоставлялись не бесплатно, а за выкуп в качестве возмещения помещикам за утрату их собственности.
4. Почти никто из крестьян не имел денег для единовременной уплаты выкупа, государство выдало из казны дворянам выкупные суммы, оформив их как государственный кредит крестьянам, который те обязаны были выплачивать в течение 49 лет из расчёта 6 % годовых. Эта операция оказалась крайне разорительной для крестьян: рыночная стоимость полученной ими земли в ценах1858 г. составляла 544 млн. руб., однако правительство оценило выкупную сумму в 867 млн. руб., то есть в 1,5 раз выше. Фактически же к1906 г., когда под натиском революции выкупные платежи были отменены, крестьяне уплатили около 2 млрд. руб., то есть почти в 4 раза больше рыночной стоимости земли.
5. Постепенное разорение крестьян входило в замысел реформаторов: потерявшим надел предстояло отправиться в город, чтобы отдать свою свободную рабочую силу на развитие фабрично-заводской промышленности. А в городе их должны были ждать получившие все выгоды от освобождения помещики с выкупным капиталом на руках, который им надлежало вложить через коммерческие банки в промышленный оборот как обещающий наибольшую прибыль.
Однако эта схема создания капиталистической промышленности сразу забуксовала в России
1. Помещики, получив в качестве выкупа «шальные деньги», не стремились вкладывать их в бизнес, а предпочитали растрачивать на непроизводительное потребление (проматывать на заграничных курортах, в карты, в рулетку и т.д.,).
2. Русское барство, избалованное жизнью на всём готовом, просто не обладало соответствующей предпринимательской психологией. 3. Помещики не получили всю теоретически причитавшуюся им выкупную сумму за свою землю (около 900 млн. руб.). Значительная часть не получила вообще ничего, так как из выкупных денег были вычтена уже имевшаяся к тому времени изрядная задолженность дворянства государственным кредитным учреждениям. Другим была выдана деньгами только небольшая часть выкупа, а остальное – выкупными свидетельствами, то есть ценными бумагами, дававшими ежегодный доход (5 %) и подлежавшими постепенному погашению (через каждые 5 лет в течение 49 лет начиная с 1867 г.). Многие помещики для получения оборотных средств вынуждены были продавать свои выкупные свидетельства биржевым спекулянтам до срока их погашения и теряли на этом от 1/3 до 2/3 их стоимости.
3. Вот как рассуждал о том, «чего лишилось дворянство в 1861 г.», один умный помещик князь Б. А. Васильчиков:
Сама структура русской пореформенной экономики, сам вариант капиталистической индустриализации, избранный правительством после 1861 г., обрекал Россию на роль дойной коровы международного капитала. Львиная доля прибылей в промышленности и кредитной сфере доставалась ему и вывозилась из страны.
подробнее тут... http://www.voskres.ru/history/dronov2.htm
И как логическое завершение...военный переворот октября.

Согласно Положению 19 февраля 1861 г.,
1.крестьяне действительно получили личную свободу и земельный надел в собственность.
2. Земельные наделы, предоставленные им, были очень малы и недостаточны для ведения полноценного хозяйства (крестьяне получили 28 % земли, помещики – 72 %).
3. Наделы предоставлялись не бесплатно, а за выкуп в качестве возмещения помещикам за утрату их собственности.
4. Почти никто из крестьян не имел денег для единовременной уплаты выкупа, государство выдало из казны дворянам выкупные суммы, оформив их как государственный кредит крестьянам, который те обязаны были выплачивать в течение 49 лет из расчёта 6 % годовых. Эта операция оказалась крайне разорительной для крестьян: рыночная стоимость полученной ими земли в ценах1858 г. составляла 544 млн. руб., однако правительство оценило выкупную сумму в 867 млн. руб., то есть в 1,5 раз выше. Фактически же к1906 г., когда под натиском революции выкупные платежи были отменены, крестьяне уплатили около 2 млрд. руб., то есть почти в 4 раза больше рыночной стоимости земли.
5. Постепенное разорение крестьян входило в замысел реформаторов: потерявшим надел предстояло отправиться в город, чтобы отдать свою свободную рабочую силу на развитие фабрично-заводской промышленности. А в городе их должны были ждать получившие все выгоды от освобождения помещики с выкупным капиталом на руках, который им надлежало вложить через коммерческие банки в промышленный оборот как обещающий наибольшую прибыль.
Однако эта схема создания капиталистической промышленности сразу забуксовала в России
1. Помещики, получив в качестве выкупа «шальные деньги», не стремились вкладывать их в бизнес, а предпочитали растрачивать на непроизводительное потребление (проматывать на заграничных курортах, в карты, в рулетку и т.д.,).
2. Русское барство, избалованное жизнью на всём готовом, просто не обладало соответствующей предпринимательской психологией. 3. Помещики не получили всю теоретически причитавшуюся им выкупную сумму за свою землю (около 900 млн. руб.). Значительная часть не получила вообще ничего, так как из выкупных денег были вычтена уже имевшаяся к тому времени изрядная задолженность дворянства государственным кредитным учреждениям. Другим была выдана деньгами только небольшая часть выкупа, а остальное – выкупными свидетельствами, то есть ценными бумагами, дававшими ежегодный доход (5 %) и подлежавшими постепенному погашению (через каждые 5 лет в течение 49 лет начиная с 1867 г.). Многие помещики для получения оборотных средств вынуждены были продавать свои выкупные свидетельства биржевым спекулянтам до срока их погашения и теряли на этом от 1/3 до 2/3 их стоимости.
3. Вот как рассуждал о том, «чего лишилось дворянство в 1861 г.», один умный помещик князь Б. А. Васильчиков:
- Спойлер
- «Во-первых, оно лишилось 33 миллионов десятин земли (переданных крестьянам при освобождении. – И. Д.), которые составляли четвёртую часть всего их земельного владения. За эти земли причиталось получить 886 миллионов рублей выкупного вознаграждения, что составляет в среднем 26 рублей за десятину. Но далеко не вся эта сумма была получена помещиками в руки. В целях облегчения финансовой стороны операции было постановлено, что все ипотечные долги помещиков казне, обеспечением коих служило поместье данного владельца, подлежали погашению за счёт выкупной ссуды, причитающейся за отходящие в надел крестьянам земли. Таких долгов помещиков казне числилось около 425 миллионов, и, следовательно, размер выданного помещикам выкупного вознаграждения понижался наполовину. Но и эта сумма в 461 миллион рублей далеко не полностью досталась помещикам. Потрясение, внесённое в хозяйство упразднением дарового труда, вызвало необходимость быстро ликвидировать выкупные свидетельства, то есть те процентные бумаги, в которых выдавалось казною вознаграждение, и эти свидетельства падали в цене, и их биржевая стоимость временами не превышала 30 % номинальной. Можно с достаточной уверенностью сказать, что, в общем, выкупные свидетельства были ликвидированы первоначальными их держателями, то есть помещиками, по цене не свыше 50 % их номинальной стоимости, и капитал, таким образом доставшийся помещикам, представлял из себя не более 250 миллионов рублей».
Из этих расчётов выходит, что разница между 2 млрд. рублей, вырученными государством по выкупным крестьянским платежам, и фактически полученной помещиками суммой в 250 млн. рублей оказалась частично прямо в карманах финансово-посреднических структур (биржевиков, банкиров, всевозможных концессионеров и комиссионеров), частично – через посредство государственного бюджета, кредитовавшего и субсидировавшего создание капиталистической индустрии и транспорта, – у них же[11]. Таким образом, выкупная операция способствовала вспуханию капиталистического финансового и индустриального сектора в экономике России и пропорциональному удушению традиционных поземельных сословий – крестьянства и поместного дворянства.
«В конечном итоге, – заключает князь Васильчиков, – у помещиков осталось около 90 миллионов десятин земли, и, следовательно, для организации хозяйства на этих землях на новых, капиталистических началах, для приобретения инвентаря и оплаты наёмного труда, у помещиков от выкупной операции осталось не более 3 рублей на десятину. В этом (а не в каком-либо ином) факте – недостаточности основного и оборотного капиталов, с которыми дворянам пришлось, после эмансипации, организовывать свои хозяйства – и кроется главнейшая и преобладающая причина последующих оскудений, разорений, задолженности и наконец постепенной ликвидации дворянского землевладения»
Сама структура русской пореформенной экономики, сам вариант капиталистической индустриализации, избранный правительством после 1861 г., обрекал Россию на роль дойной коровы международного капитала. Львиная доля прибылей в промышленности и кредитной сфере доставалась ему и вывозилась из страны.
- Спойлер
- Например, в 1913 г. перевод за границу прибылей иностранными агентами в России составил 150 млн. руб., 221 млн. руб. было выплачено по государственным займам, 34 млн. руб. – по частным займам, ещё 292 млн. руб. утекли из страны вместе с «русскими путешественниками» (дореволюционные представители капиталистической элиты тоже предпочитали отдыхать, учиться и лечиться за границей, что влекло за собой постоянную и огромную утечку капитала). Всего, таким образом, в 1913 г. вывоз капитала из России достиг 697 млн. золотых руб., а поскольку сальдо торгового баланса дало избыток в 146,1 млн. руб., то чистая утечка капитала составила 550,9 млн. руб. По пятилетиям дефицит платёжного баланса России (то есть превышение вывоза капитала над притоком) выглядит следующим образом: в 1894–1898 гг. – 802 млн. руб.; 1899–1903 гг. – 894 млн. руб.; 1904–1908 гг. – 778 млн. руб.; 1909–1913 гг. – 1296 млн. руб. Соответственно за 20 лет иностранный капитал извлёк из России без всякого эквивалента 3 млрд. 770 млн. золотых рублей чистой прибыли.
Понятно, что для покрытия этого гигантского дефицита, для поддержания размена рубля на золото, бурным потоком утекавшее за рубеж, государству приходилось снова и снова прибегать к внешним заимствованиям, следствием чего был непрекращающийся рост государственного долга. В 1901 г. долг Российской империи достиг 6,4 млрд. руб., в 1914 г. – 12 млрд. руб., из которых больше половины приходилось на заграничные заимствования. По тяжести ежегодных платежей Россия занимала 1-е место в мире (в 1913 г., как мы видели, её прямая дань международному капиталу составила свыше 400 млн. руб.)[34]. Таким образом, российская модель капиталистического рынка оказалась весьма убыточной и по критериям самой рыночной рациональности вполне бессмысленной.
Разумеется, основная тяжесть выплат по государственному долгу ложилась на аграрный сектор, прежде всего на крестьянство, наиболее массового плательщика казённых налогов. Протекционистская система также налагала разорительную дань на аграриев (включая помещиков), так как после введения в 1891 г. запретительных пошлин на ввоз дешёвых иностранных изделий покупка любой железки отечественного производства обходилась сельским хозяевам в 2–3 раза дороже. Эти «ножницы цен» служили ещё одним способом капиталистического накопления и, наряду с железнодорожным спрутом, являлись дополнительным мощным насосом по перекачке средств из деревни в индустриальный сектор, в форсированное развитие капиталистической финансовой и транспортной инфраструктуры. Даже сам усердный насадитель протекционизма министр финансов С. Ю. Витте (занимал пост в 1892–1903 гг.) вынужден был признать в своём всеподданнейшем секретном докладе (февраль 1899 г.): «За пуд чугуна англичанин платит 26 коп., американец – 32 коп., а русский – до 90 коп. Благодаря пошлине русский житель платит за многое, что он покупает, значительно дороже, чем иностранный. Вследствие этого… возрастает стоимость жизни и богатого, и бедного человека, напрягается до крайности платёжная способность населения, во многих случаях прямо сокращается потребление. Не может не видеть министр финансов, что эти приплаты из-за пошлин особо тяжёлым бременем падают на оскудевшие бюджеты землевладельцев и крестьян-земледельцев… Эти приплаты суть тяжёлые жертвы, которые платит весь народ, но не от избытка, а от нужды». Однако Витте не собирался менять политику: «Великие задачи требуют и великих жертв, – с пафосом внушал он Николаю II. – Новая промышленность не может вырасти в короткий срок. Поэтому и покровительственные пошлины должны продержаться десятки лет для того, чтобы успеть привести к положительному результату»
подробнее тут... http://www.voskres.ru/history/dronov2.htm
И как логическое завершение...военный переворот октября.
Всё намного проще...мама любила читать Аркадия Гайдара....Марк писал(а):имя Тимур

- Папа_Карло


- Сообщения: 27502
- Темы: 77
- Зарегистрирован: Пн, 5 марта 2007
- С нами: 18 лет 8 месяцев
Re: Вопрос Папе Карло
Ольга Совякина писал(а):а вот ничего не напоминает? ситуация-то у нас похожая...даже пачпорта имеем
В 1918 году в Германии, например, после окончания первой мировой войны, тоже была "рэволюционная" ситуация, но там был класс буржуазии, который создал левобуржуазную партию, оттянул часть голосов, чтобы социал-демократам не удалось получить большинство в Национальной ассамблее, и не допустил экстремистского социалистического сценария.
Если бы в России к 1918 были не только крестьяне и дворяне - два класса антагониста, которые на любых переговорах следовало бы развести по разным комнатам
 , а было бы достаточно буржуазии , то в России не было бы революции...крови..голода..
, а было бы достаточно буржуазии , то в России не было бы революции...крови..голода..Сейчас РФ по типу государства, по форме правления, развитию технологий на уровне развивающихся стран как минимум, а в чем-то и с развитыми сравнимся. Мы экспортим не только сырье, но и трудовые ресурсы: немало наших развивают их науку, экономику и технологии.
Поэтому - не напоминает.
- rita123

- Откуда: Москва
- Сообщения: 7485
- Темы: 261
- Зарегистрирован: Вс, 4 апреля 2010
- С нами: 15 лет 7 месяцев
Re: Вопрос Папе Карло
monroe, пжл, измени название темы на нормальное, а то мне это напоминает наш хелпдеск и темы писем "проблема", "не работает" .. 
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
если не ошибаюсь, то земли дворян после 1861 года выкупало государство для передачи крестьянам по высоким и очень выгодным ценам.
Земельное законодательство того времени не подразумевало частную собственность крестьян на их землю, они не могли свободно ее продать и переехать, например, в Сибирь. Законами фиксировался выгодный дворянству уклад, достаточное количество крестьян-арендаторов и уровень их жизни. Любое улучшение положения крестьян тормозилось дворянством (влияние на царя, правительство, министерства, земство), и это все конвертировалось в материальный выигрыш дворянства, они создавали себе максимально выгодные условия.
В государстве были финансовые институты специально для дворян, т.е. государственные средства перетекали дворянам.

Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
monroe писал(а):на что жили русские дворяне
если не ошибаюсь, то земли дворян после 1861 года выкупало государство для передачи крестьянам по высоким и очень выгодным ценам.
Земельное законодательство того времени не подразумевало частную собственность крестьян на их землю, они не могли свободно ее продать и переехать, например, в Сибирь. Законами фиксировался выгодный дворянству уклад, достаточное количество крестьян-арендаторов и уровень их жизни. Любое улучшение положения крестьян тормозилось дворянством (влияние на царя, правительство, министерства, земство), и это все конвертировалось в материальный выигрыш дворянства, они создавали себе максимально выгодные условия.
В государстве были финансовые институты специально для дворян, т.е. государственные средства перетекали дворянам.
- rita123

- Откуда: Москва
- Сообщения: 7485
- Темы: 261
- Зарегистрирован: Вс, 4 апреля 2010
- С нами: 15 лет 7 месяцев
Re: Вопрос Папе Карло
monroe писал(а):Я хочу спросить - на что жили русские дворяне?
Катя, нашла у кого спрашивать

- lucky


- Откуда: New York
- Сообщения: 9973
- Темы: 169
- Зарегистрирован: Сб, 2 апреля 2005
- С нами: 20 лет 7 месяцев
Re: Вопрос Папе Карло
rita123 писал(а):В 1918 году в Германии, например, после окончания первой мировой войны, тоже была "рэволюционная" ситуация, но там был класс буржуазии, который создал левобуржуазную партию, оттянул часть голосов, чтобы социал-демократам не удалось получить большинство в Национальной ассамблее, и не допустил экстремистского социалистического сценария.
 вы в то время жили в германии, и всё видели своими глазами?
вы в то время жили в германии, и всё видели своими глазами?- RinkA


- Откуда: Germany
- Сообщения: 10788
- Темы: 178
- Зарегистрирован: Пн, 14 января 2008
- С нами: 17 лет 9 месяцев
- О себе: _рататуй_
Re: Вопрос Папе Карло
Wass? Так и Марианна к "свиньям" принадлежит. Переходя на личности не забывайте о модераторах... 

- Nickel

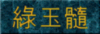
- Сообщения: 2922
- Темы: 70
- Зарегистрирован: Сб, 1 июня 2013
- С нами: 12 лет 5 месяцев
- О себе: Опытный Иудей
Re: Вопрос Папе Карло
Nickel писал(а):Wass? Так и Марианна к "свиньям" принадлежит. Переходя на личности не забывайте о модераторах...
для немцев мы "руссиш швайн". Бойкот Олимпиады очередное доказательство.
И обе Гретхен демонстрируют весьма специфическое и понятное отношение, деформация сознания эммигранта. Я от излишней вежливости не страдаю, если лезут обязательно скажу, куда пройти. Мира у меня вообще в игнорлисте всегда была, но пока ее муж лупил смертным боем, ее можно было здесь читать. Видимо пора снова ее заигнорить. Бестактно?
 Зато обратная связь качественная
Зато обратная связь качественная 
не часто обременяю модераторов ..пусть разомнутся

- rita123

- Откуда: Москва
- Сообщения: 7485
- Темы: 261
- Зарегистрирован: Вс, 4 апреля 2010
- С нами: 15 лет 7 месяцев
Re: Вопрос Папе Карло
rita123, да нет, глупости, нормально к русским относятся в Германии  , насколько знаю... Ну везде конечно свои экземпляры имеются, но не обязательно ж именно по ним судить.
, насколько знаю... Ну везде конечно свои экземпляры имеются, но не обязательно ж именно по ним судить.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
rita123, мнение высказать Вы полное право имеете, но в корректной форме пожалуйста. Вам бы наверное тоже не понравилось, если бы в Ваш адрес так отвечали.
 , насколько знаю... Ну везде конечно свои экземпляры имеются, но не обязательно ж именно по ним судить.
, насколько знаю... Ну везде конечно свои экземпляры имеются, но не обязательно ж именно по ним судить.Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
rita123, мнение высказать Вы полное право имеете, но в корректной форме пожалуйста. Вам бы наверное тоже не понравилось, если бы в Ваш адрес так отвечали.
- Марианна

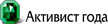

- Сообщения: 14314
- Темы: 219
- Зарегистрирован: Чт, 2 ноября 2006
- С нами: 19 лет
Re: Вопрос Папе Карло
Марианна писал(а):rita123, да нет, глупости, нормально к русским относятся в Германии , насколько знаю... Ну везде конечно свои экземпляры имеются, но не обязательно ж именно по ним судить.
я не в Германии, я на форуме.
А как относятся - представляю. По-разному в разных ситуациях и общий вектор веками не меняется
 Впрочем, если индивидуально с человеком, то он будет в рамочках. А если через осознание нации, то увы ... Как мы относимся к гномикам на наших улицах?
Впрочем, если индивидуально с человеком, то он будет в рамочках. А если через осознание нации, то увы ... Как мы относимся к гномикам на наших улицах? 
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Марианна писал(а):rita123, мнение высказать Вы полное право имеете, но в корректной форме пожалуйста. Вам бы наверное тоже не понравилось, если бы в Ваш адрес так отвечали.
Мне нравится качественная обратная связь.
 И если я так напишу, то пусть мне так и ответят. Разрешаю.
И если я так напишу, то пусть мне так и ответят. Разрешаю. 
- rita123

- Откуда: Москва
- Сообщения: 7485
- Темы: 261
- Зарегистрирован: Вс, 4 апреля 2010
- С нами: 15 лет 7 месяцев
Re: Вопрос Папе Карло
Дело в том что тут, т.к. форум место, где общается большая группа людей, нужно учитывать общие правила. Ну хотя бы стараться.rita123 писал(а):Мне нравится качественная обратная связь. И если я так напишу, то пусть мне так и ответят. Разрешаю.
- Марианна

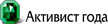

- Сообщения: 14314
- Темы: 219
- Зарегистрирован: Чт, 2 ноября 2006
- С нами: 19 лет
Re: Вопрос Папе Карло
Может люди и нормально относятся. Но политики считают славян людьми второго сорта. Навязывают Украине своих агентов - Виталия Кличко, щедро спонсируют его партию, поддерживают Майдан, против которого миллионы граждан Юго-востока Украины. Но их мнение в Германии игнорируют. Защищают мошенницу Тимошенко и не пекутся, что в украинских и российских тюрьмах, в ужасных условиях сидят тысячи других женщин и подростков.Марианна писал(а):да нет, глупости, нормально к русским относятся в Германии, насколько знаю... Ну везде конечно свои экземпляры имеются, но не обязательно ж именно по ним судить.
- Марк
- Сообщения: 7467
- Темы: 435
- Зарегистрирован: Вс, 9 июня 2013
- С нами: 12 лет 5 месяцев
Re: Вопрос Папе Карло
Папа_Карло
Вы в теме об Украине подняли проблему украинского гимна "Ще не вмерла Украина". За что на вас с осуждением набросились Дежанейров и Максим. Не обращайте внимания. Даже украинские националисты, в минуты добродушия говорят о том же. "Ну о чем поют в гимне? К смерти готовятся? Петь надо о жизни, о возрождении".
От себя добавлю, что психологи установили, что подсознание человека не воспринимает частицу не ( в аффирмациях, а ежедневный гимн это нечто вроде мантры-аффирмации для целого народа). То есть подсознание украинцев читает"Уже вмерла Украина". Что мы и наблюдаем всю ее историю: Голодомо 30 годов, украинские националисты-бандеровцы устроившие террор для той части украинцев, которые приняли советскую власть, затем обнищание и вымирание украинцев с 1991 по 2014гг. Население Украины снизилось с 52 миллионов и до менее чем 46. Плюс развал в экономике, разгул коррупции и воровства.
Вы в теме об Украине подняли проблему украинского гимна "Ще не вмерла Украина". За что на вас с осуждением набросились Дежанейров и Максим. Не обращайте внимания. Даже украинские националисты, в минуты добродушия говорят о том же. "Ну о чем поют в гимне? К смерти готовятся? Петь надо о жизни, о возрождении".
От себя добавлю, что психологи установили, что подсознание человека не воспринимает частицу не ( в аффирмациях, а ежедневный гимн это нечто вроде мантры-аффирмации для целого народа). То есть подсознание украинцев читает"Уже вмерла Украина". Что мы и наблюдаем всю ее историю: Голодомо 30 годов, украинские националисты-бандеровцы устроившие террор для той части украинцев, которые приняли советскую власть, затем обнищание и вымирание украинцев с 1991 по 2014гг. Население Украины снизилось с 52 миллионов и до менее чем 46. Плюс развал в экономике, разгул коррупции и воровства.
- Марк
- Сообщения: 7467
- Темы: 435
- Зарегистрирован: Вс, 9 июня 2013
- С нами: 12 лет 5 месяцев
Сообщений: 39
• Страница 2 из 2 • 1, , 2
Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)
Сейчас этот раздел просматривают: 21 гость

