http://www.vecherka.ru/articleprint/1986"Вечерний Красноярск"
Владимир Романовский: «Я весь – из лоскутков»№26 (70) среда, 12 июля 2006 г.
Способен ли балет в оперетте на нечто большее, чем привычная подтанцовка? Новый главный балетмейстер Красноярского театра музкомедии Владимир Романовский доказал – такое вполне возможно. Его хореографический нон-стоп «Лоскутное одеяло» стал одним из самых ярких событий прошедшего сезона.
– Владимир, откуда у постановки такое забавное название? Первая ассоциация – что-то лубочное, фольклорное. У вас же в ней представлены не только этнические номера…
– Название вовсе неслучайно, как это может показаться на первый взгляд. Морис Бежар в своей книге «Мгновения. Жизнь постороннего» говорит, что он, как лоскутное одеяло, состоит из разных кусочков – классического балета русской школы, картин импрессионистов, скульптур Родена… И если эти частички разобрать, от него ничего не останется. Так и для меня, лоскутное одеяло – некая мозаика, с любовью собранная вручную, лоскуток к лоскуточку.
– Вы себя как хореограф ощущаете подобным одеялом?
– Конечно! У каждого постановщика свой стиль, но все равно он рождается из разных составляющих.
.jpg)
«В МУЗЫКУ НАДО ВЛЮБИТЬСЯ»
– А какая стилистика вам больше интересна?
– У меня классическое образование. Окончил училище культуры в Питере, потом институт, консерваторию. Но интересуюсь также и джазом, и модерном, и фольклором – всегда отталкиваюсь от музыки. Если она мне не по душе, стараюсь себя в нее влюбить, иначе ничего не получится. Был такой знаменитый хореограф Лев Иванов, он поставил всю лебединую картину в «Лебедином озере». Нескромно сравнивать себя с гением, но, по свидетельству очевидцев, если музыка ему не нравилась, у него всегда был провал.
Во многом такое понимание пришло из классической школы. Для некоторых современных хореографов главное – работа актера, заполнение собой пространства, а не музыка. Я искренне приветствую разные подходы. Но мне ближе к душе именно музыкальность. Всегда поражался, когда видел знаменитые работы Киллиана, Макса Экка, несмотря на их абсолютно противоположную хореографическую лексику – Боже, неужели этим людям дано так слышать музыку? Каждая ноточка, каждое движение пальцев ей соответствует!
– В таком случае «Лоскутное одеяло» – ваш личный музыкальный хит-парад?
.jpg)
– Возможно. Я не рискнул сразу же браться за какую-то концептуальную постановку. Пожалуй, не все были готовы принять появление балетного спектакля в театре музыкальной комедии – это могло вызвать слишком много споров. Да и сами артисты, мне кажется, не были подготовлены к столь резкому переходу. Поэтому я просто представил разные номера. Кстати, поначалу вообще хотел назвать эту программу «Перекрестком» – в ней пересекаются различные танцевальные стили. Но в театре недавно вышел детский спектакль «Детектив на перекрестке» – могла возникнуть путаница.
«ОБОЖАЮ СОБАК»
– Несколько неожиданно, что номер «Кошки» поставлен у вас на музыку Горана Бреговича – обычно он ассоциируется с мюзиклом Уэббера…
– А эта мелодия – из фильма Кустурицы «Черная кошка, белый кот», все созвучно! Кстати, когда впервые посмотрел спектакль целиком, немного расстроился – «Кошки», как мне показалось, вообще в него не вписывались. А потом художники поменяли котам хвосты, сделали их на некой подвижной основе, и все стало на свои места – без смеха на артистов смотреть невозможно! (Улыбается.)
– В жизни вам кошки столь же симпатичны, как и на сцене?
– Как раз наоборот – предпочитаю собак. У меня дома живет китайский шит-цу – совершенно чудесная собаченция! Кто первым встретит, когда придешь уставший с репетиции? Любимый пес. Моя собака очень тонко чувствует настроение – и порадуется вместе с тобой, и погрустит… А кошки чересчур независимые, захотят – снизойдут до тебя. У родителей в вологодской деревне всегда жили кошки – им главное, чтобы кормить не забывали, живут своею жизнью.
– Кстати, что вас из деревни вдруг привело в классический балет? Родители не удивились такому выбору профессии?
– Очень им благодарен, что они не стали меня ограничивать. Мама так и сказала: «Володя, это твоя жизнь, решай сам». А я нисколько не сомневался в своем предназначении, в хореографию пришел совершенно осознанно. Просто понял, что не могу без балета, – меня аж трясло, когда видел его по телевизору! Но так получилось, что встал к балетному станку уже в 16 лет.
«БАЛЕТМЕЙСТЕР – ДВУЛИКИЙ ЯНУС»
– Не поздновато?
– Вы знаете, если бы я в детстве жил не в семье, а в интернате, еще неизвестно, чем бы все обернулось, – мог и возненавидеть балет вдали от близких. А в институте я получил хорошую базу – четыре года занимался классическим танцем, народным, усвоил первые уроки композиции. И, кстати, очень быстро понял, что гениального танцора из меня не получится. Хотя объездил с институтским ансамблем всю Европу и во время учебы в консерватории танцевал в театре. Но тяга к сочинительству, постановке танцев захватывала все сильнее. Поэтому и пошел после института в консерваторию на режиссуру балета – хотелось дальше развиваться в любимой профессии. Учебу в ней вспоминаю как один из самых счастливых периодов в жизни – это было настоящее творчество, поиск себя.
– И как, нашли?
– Главное, что я понял: хореограф мыслит пластически. Допустим, нужно мне изобразить старца – в первую очередь должен определить, какие движения войдут в этот образ. И создать определенную метафору. Мой учитель Эдвальд Арнольдович Смирнов говорил: балет силен своей метафорой. Вилиссы в «Жизели» – это метафора, некий бесплотный дух. Белые лебеди – обобщение какого-то лирического женского начала. И как противоположность им Одиллия в черной пачке – это страсть, совсем другая женская энергия. Не случайно самые знаменитые балетные спектакли – поэтические, где есть определенная степень обобщения.
– Балетмейстер – наверное, отчасти Пигмалион?
– Скорее двуликий Янус. (Улыбается.) Когда ты ставишь женские партии, невольно пытаешься понять, как женщина может это станцевать. Мужчина все равно никогда не поймет женскую суть. Но ты должен учитывать хотя бы ее возможности, энергетику. Сочиняешь, допустим, образ падшей женщины – одна хореография. Образ Жанны д’Арк – совсем другая, и все нужно пропустить через себя. Немного завидую хореографам, которые сочиняют, сидя на стуле. Может, это приходит с возрастом, с опытом? Пока что, если я своими ногами не проверю все движения, которые придумываю, ничего не получится.
Кстати, всегда восхищался умением Бежара режиссировать спектакли. Он может просто одной деталью придать смысл всей постановке. В спектакле «Прощание» на Пятую симфонию Малера у него абсолютно пустая студия. И где-то на авансцене стоит калитка, через нее человек уходит… Что еще объяснять – все просто и гениально! А еще на меня большое впечатление произвели номера питерского балетмейстера прошлого века Леонида Якобсона. Он был непревзойденным гением миниатюры, считал, что каждому танцу нужна своя пластика, индивидуальный подход. У его «Влюбленных», на основе еврейской музыки, – одна постановка. Взять шикарный номер «Слепая» – как будто другой хореограф делал! Стараюсь и сам не повторяться.
В КРАСНОЯРСКЕ БУДЕТ СВОЯ «ЮНОНА И АВОСЬ»
– А чем вас заинтересовало приглашение поработать в театре музкомедии?
– Мне интересно пробовать себя в разном. Если выпадает шанс – всегда стараюсь им воспользоваться. В Красноярск меня порекомендовала моя однокурсница из консерватории. Неожиданно встретил ее в метро – она в это время как раз набирала мой номер телефона, представляете? Решил, что такое совпадение не случайно. Приехал сюда в ноябре, поставил танцы к мюзиклу «Ночь перед Рождеством». После чего директор театра Наталья Ивановна Русанова, увидев товар лицом, предложила продолжить сотрудничество. Почему бы и не поработать? С труппой сразу нашел общий язык. Мне показалось, артисты здесь соскучились по работе. Часто их используют лишь в подтанцовке, убери – никто не заметит… А хочется, чтобы балет тоже привносил какую-то драматургию в спектакль. Сейчас мы с режиссером Юрием Михайловичем Цехановским работаем над рок-оперой «Юнона и Авось» – отрадно, что он не мыслит свою постановку без балета.
акие слабости у ваших артистов, сильные стороны?
– Пока что хромает танцевальная техника. И мужская часть труппы заметно уступает женской. Среди мужчин не хватает солиста, с ярко выраженной индивидуальностью. А прелесть труппы музыкальной комедии, на мой взгляд, в том, что здесь нет жесткого разделения на кордебалет и солистов. В одном номере ты солируешь, в другом – танцуешь наравне со всеми. Артист должен уметь все – и классику станцевать, и характерные партии. А некоторые у нас еще и поют. Игорь Сметанин готовит в «Юноне и Авось» серьезную партию звонаря, Елена Климонтова поет в «Кентервильском приведении». В подобной гибкости и быстрой трансформации, на мой взгляд, сильное преимущество балета театра музкомедии.
– Потянет ли труппа полноценный балетный спектакль?
– Считаю, что классику здесь ставить ни к чему – ее можно посмотреть в театре оперы и балета. А нам нужно выстраивать свой репертуар, где пластика будет основана на современном танце, вне зависимости от музыки. Не буду раскрывать все карты, но на следующий сезон мы запланировали подобный спектакль, с единым сюжетом, персонажами – он будет рассчитан только на силы балетной труппы.
РИСК – БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО
– Не боитесь рисковать?
– Сознательно к этому стремлюсь! И в значительной степени уверен, что те артисты, на которых возлагаю надежды, справятся с задачей. Мне кажется, им самим это очень интересно. Идей много. Хотелось бы сделать какой-то совместный проект с вокалистами. Я рад, что нашел взаимопонимание с Натальей Горячевой – она прекрасная актриса, очень разноплановая. Грех не использовать в театре столь ярких личностей.
– Владимир, а по Питеру не скучаете?
– Я не окончательно с ним расстался. У меня там семья, свой маленький балет «Эклектика» – ему скоро десять лет. В мое отсутствие им занимается жена. Мы столько лет вместе протанцевали, что я полностью ей доверяю, – она отлично знает мою пластику. Так что живу между двух городов… И потом, Красноярск очень похож на Питер – та же влажность, фонтаны кругом. А больше всего меня здесь удивили и порадовали пальмы в кадках – как в Питере до этого до сих пор не додумались?! (Смеется.)
№26 (70) среда, 12 июля 2006 г.
Автор Елена Коновалова
Фото Натальи Барановой

















.jpg)
.jpg)



 Обожаю пасадобли!В Австрии тож такая передача есть, жаль у меня украинского телевидения нет...
Обожаю пасадобли!В Австрии тож такая передача есть, жаль у меня украинского телевидения нет... 
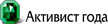
 Но после Плисецкой, она все же мой фаворит, Алонзо великолепна!У них обоих есть какая-то особая манера танцевать Кармен, хотя Алонзо более мягко, женственно танцует, а Плисецкая резко и угловато.Все же у них есть какая-то задорно-хулиганская грация...Алонзо, ближе присмотришься-ой...смотришь издалека-красотка Кармен!Супер!
Но после Плисецкой, она все же мой фаворит, Алонзо великолепна!У них обоих есть какая-то особая манера танцевать Кармен, хотя Алонзо более мягко, женственно танцует, а Плисецкая резко и угловато.Все же у них есть какая-то задорно-хулиганская грация...Алонзо, ближе присмотришься-ой...смотришь издалека-красотка Кармен!Супер!
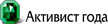


 Я очень рада за Карину...7 сезонов она шла к этой победе и вот...Свершилось
Я очень рада за Карину...7 сезонов она шла к этой победе и вот...Свершилось 



Но после Плисецкой, она все же мой фаворит, Алонзо великолепна!У них обоих есть какая-то особая манера танцевать Кармен, хотя Алонзо более мягко, женственно танцует, а Плисецкая резко и угловато.
 Это такая манера, стиль для этой партии, который нашла Майя Михайловна.
Это такая манера, стиль для этой партии, который нашла Майя Михайловна.  И этот стиль хорошо ложился на ее собственный характер.
И этот стиль хорошо ложился на ее собственный характер. 



